«Секретная» болезнь. Как протекает менструальный психоз — случай из практики психиатра
Отрывок из книги «Психиатрия в лицах пациентов» Владимира Менделевича.
О связи психических расстройств с менструальным циклом было известно со времен Гиппократа. В научной литературе работы на эту тему появились уже в XVIII в. Однако в те годы описывались расстройства только психотического регистра. К концу XIX в. количество работ возросло.
Так, C. Clouston прямо указывал на менструации как на «производящую или предрасполагающую причину помешательства». Этих же взглядов придерживались B. Bartel, H. Muller и др. В 1894 г. вышла большая работа П. И. Ковалевского, в которой он не только обнаружил связь между психозом и менструальным циклом, но и сформировал основные признаки психоза.
Это периодичность, клиническая схожесть приступов друг с другом «почти до мелочей», негрубость («слабость») нарушения сознания, нерезкое изменение поведения, речи и поступков. В эти же годы P. Крафт-Эбинг дал яркое описание клиники предменструального синдрома: «Очень многие женщины, являясь в промежутке между периодами регул нежными супругами и матерями, милыми хозяйками и приятными собеседницами в обществе, совершенно изменяются в своем характере и обращении, как только регулы у них показались или приближаются. Это как буря — они становятся придирчивыми, раздражительными, сварливыми, порой превращаясь в настоящих фурий, которых все боятся и избегают».
Автор ограничил рамки ПМС (предменструального синдрома) лишь эмоциональными и поведенческими расстройствами и не включил психотические симптомы. Аналогичной позиции придерживается и большинство современных психиатров, в том числе и отечественных, отрицая этиологическую связь между менструальным циклом и психозами.
В ПМС описываются только такие симптомы, как раздражительность, вспыльчивость, агрессивность, плаксивость, понижение настроения, астения. Есть работы, выделяющие отдельные формы ПМС, в частности дисфорическую.
В то же время никто из психиатров не отрицает временную связь психотических картин с ПМС или с самой менструацией, однако эти психотические картины рассматриваются как известные эндогенные заболевания (шизофрения, биполярное аффективное расстройство), проявившиеся или обострившиеся в период менструации.
«Собственно менструальных психозов не существует», или «существование менструальных психозов не доказано» — так считает большинство отечественных психиатров. Зарубежные психиатры, придерживающиеся такой же позиции, описывали в период ПМС обострение биполярного расстройства или шизофрении.
И все же до настоящего времени в литературе появляются работы, указывающие на возможность психотических эпизодов, непосредственно связанных с менструальным циклом.
Так, S. Severino отмечает, что кратковременные психотические симптомы во время поздней лютеиновой фазы и mensis описаны в литературе под названием «атипичный психоз», «периодический психоз», «циклоидный психоз», и приводит несколько примеров пациенток с предменструальным психозом. D. Stein et al. публикуют историю болезни 14-летней девочки с ПМС, у которой развивался поздний лютеиновый психоз во время менструальных периодов, заканчивавшийся сразу после начала менструации.
Авторы считают, что такие психозы должны рассматриваться как специфическая доброкачественная болезнь, не включенная в перечень общепризнанных функциональных психозов. В другой статье эти же авторы приводят еще три аналогичных случая.
Большинство ученых, признающих наличие специфических, связанных с mensis психозов, отмечают, что, хотя ПМС поражает до 90% женщин репродуктивного возраста, лишь малое количество из них действительно имеют в этот период психотические симптомы.
L. Hu, P. Chen считают, что предменструальный психоз является состоянием неизвестной этиологии, по поводу существовании которого до сих пор «продолжаются обсуждения». Авторы приводят историю болезни 17-летней девушки, у которой наблюдался периодически повторяющийся предменструальный психоз.
Первую классификацию менструальных психозов представил P. Крафт-Эбинг. Он выделил овуляционный (одиночный, рецидивирующий и периодический) психоз и эпохальный менструальный психоз. Позднее P. Jolli видоизменил данную классификацию, разделив психозы по времени появления: до первой менструации, во время менструации, во время менопаузы, периодически повторяющиеся менструальные психозы и эпохальные случаи.
J. Brockington, исходя из анализа большого количества литературных источников за XVIII–XX вв., предложил модифицировать классификацию P. Крафт-Эбинга и P. Jolli, распределив менструальные психозы по времени возникновения в менструальном цикле. Он выделяет:
- Предменструальные психозы, которые начинаются во второй половине цикла и иногда заканчиваются внезапным выздоровлением в начале менструального кровотечения;
- Менструальные психозы, которые начинаются с появлением менструаций;
- Параменструальные психозы — они могут появиться в любой период менструального цикла;
- Промежуточные психозы — их начало относится приблизительно к середине менструального кровотечения;
- Эпохальные менструальные психозы — они длятся полный цикл, прекращаясь на время менструации.
Таким образом, на основании многочисленных публикаций на тему менструальных психозов можно утверждать, что большинство работ, описывающих собственно менструальные психозы, относятся к XVIII и XIX вв. Однако и до настоящего времени появляются труды, в которых обсуждаются проблемы нозологической специфичности этой группы заболеваний и приводятся клинические наблюдения, подтверждающие связь психотических эпизодов с менструациями.

Ниже описана история жизни и болезни пациентки, которую на протяжении четырех десятилетий наблюдал и лечил один из авторов этой статьи по поводу периодических психотических приступов, по времени тесно связанных с менструальным циклом:
Пациентка Елизавета, 63 года
В настоящее время проживает в Лондоне. Родилась и росла единственным ребенком в семье служащих. Отец врач, мать экономист, бабушка преподаватель физической культуры в школе.
По характеру отец был жестким, решительным, энергичным, успешным хирургом по профессии. В воспитании дочери участия не принимал. Мать была мягкая, бесконфликтная, добрая, любила побаловать дочь, с которой проводила много времени. Бабушка — основной воспитатель внучки.
По характеру волевая, прямолинейная, кроме воспитания внучки, увлекалась политикой, была «активной коммунисткой». Наследственность по психическим заболеваниям как со стороны матери, так и со стороны отца здоровая.
Елизавета росла и развивалась правильно, только в пятимесячном возрасте у нее наблюдался «судорожный приступ», длившийся 5–10 мин. Обследование у врачей патологии не выявило. Было предложено наблюдение, однако в дальнейшей жизни подобных приступов не возникало и более к врачам не обращалась. В детстве перенесла ветряную оспу, корь — без осложнений.
В школе с шестилетнего возраста училась прилежно. Успешно окончила среднюю школу с углубленным изучением английского языка. Обнаруживала хороший музыкальный слух, два года училась по классу фортепиано в музыкальной школе, но бросила, так как бабушка решила, что внучка должна заняться спортом.
Вначале девочка посещала секции, которыми руководила бабушка, затем активно стала заниматься легкой атлетикой и волейболом. Больших достижений в спорте не достигла, но всегда «хорошо вписывалась в команду». В школе также отличалась общительностью, имела много подруг, была активной пионеркой, комсомолкой, избиралась старостой класса.
Летние месяцы проводила только с родителями, которые не забывали о судорожном приступе и не отпускали ее отдыхать в пионерские лагеря. Бабушка провожала девочку ежедневно в школу и встречала ее после уроков вплоть до окончания восьмого класса.
Впервые болезнь проявилась в 14 лет: неожиданно прибежала из школы, не дождавшись бабушки. Сказала, что ей страшно, ее хотят избить — «мальчики из класса сговорились». Заставила бабушку запереть квартиру на все замки. Спряталась в своей комнате, из дома несколько дней не выходила, плохо спала, вскрикивала. Через четыре дня начались первые месячные.
Психическое состояние с началом регул резко улучшилось. Лиза «пришла в себя», умылась, поела и стала собираться в школу. Рассказала родителям ту же историю с плохими мальчиками из класса, но, улыбаясь, добавив:
«Я так кричала, что они все испугались и теперь ничего мне не сделают».
Со слов родителей, у дочери примерно с 14 лет время от времени возникали кратковременные (3–4 дня) состояния, во время которых она жаловалась, что ребята из класса хотят ее избить, что-то против нее замышляют, «по-особому смотрят», «ухмыляются». В эти дни переставала ходить в школу.
После каждого приступа дочь вновь рассказывала, будто бы ребята из класса смеялись над ней, угрожали. Отец обращался к классному руководителю, однако учителя убеждали его в том, что обстановка в классе нормальная, никто девочке не угрожал. Все же по просьбе отца в классе провели собрание о дисциплине и дружбе.
К сожалению, как сообщил отец, дети, видимо, догадались о причине такого разбора и действительно стали подсмеиваться над Лизой. Родители вспоминают, что в тот год они даже хотели перевести дочь в другую школу, но преподаватели уговорили оставить девочку, ссылаясь на ее отличные успехи в овладении английским языком.
Приступы психического расстройства повторялись сначала через 2–3 месяца, затем стали появляться ежемесячно. Их длительность всегда составляла 2–4 дня. Начало и конец, по словам родителей, были острыми. Когда связь приступов болезни родители увязали с менструальным циклом, отец показал дочь гинекологу.
Врач успокоила родителей, сказав, что «так бывает» и что, «когда девушка выйдет замуж, все пройдет». К психиатру отец решил не обращаться и занялся лечением дочери самостоятельно. Он назначил транквилизаторы, которые в первые полгода дочь пила постоянно. В периоды ПМС отец добавлял к лечению фенобарбитал («для сна»).
Однако весь ПМС у дочери держалась подозрительность, страх, она не выходила из своей комнаты, в школу не ходила. Страх усиливался при появлении в доме кого-нибудь из посторонних. Отрицательно реагировала даже на приход двоюродного брата, с которым дружила. В эти дни ни читать, ни смотреть телевизор не могла. Лежала в постели.
При приближении к ней кого-либо из родных дрожала всем телом, просила выйти из комнаты и запереть ее, иногда срывалась на крик. По выходе из приступа болезни говорила, что все это ей «казалось», что на самом деле она любит родителей и бабушку и извиняется, что так плохо о них думала.
Отец продолжал лечить дочь самостоятельно, ни с кем не советуясь, скрывая от окружающих ее болезнь, однако регулярно скрупулезно описывал состояние дочери в дневнике. Позднее врачу-психиатру он объяснил эти записи тем, что когда-то, в начале своей врачебной карьеры, он чуть не попал под суд из-за плохо оформленной истории болезни скончавшегося в его отделении больного.
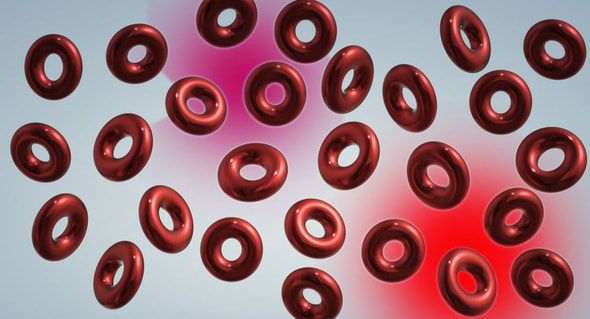
Длительный непрерывный прием транквилизаторов привел к тому, что дочь стала более вялой, заторможенной. Она почти перестала посещать спортивные секции, «стала домашней». Сама больная и ее родители больше всего боялись, что о болезни могут узнать окружающие. Родители ждали замужества дочери. После школы окончила финансово-экономический институт.
Все годы почти постоянно принимала тот или иной транквилизатор, но в период ПМС все равно заниматься не могла, в институт в эти дни также не ходила. Отмечались тревога и страх. Подозрительность в домашней обстановке переключалась на родных, которых в эти дни подозревала в желании сделать ей «что-нибудь плохое: ударить, избить».
После вуза приступила к работе в расчетном отделе банка. Работа для нее оказалась несложной, отношения с первых дней с сотрудниками и руководством банка сложились хорошие. Отец решил уменьшить дозу препарата. При наступлении первого же ПМС возникли психические нарушения прямо на работе.
Елизавета, со слов сотрудниц, стала испуганно оглядываться по сторонам, затем с криком «Спасите!» забежала в туалет, заперлась там, продолжая кричать: «Спасите… меня убивают… вызовите милицию!» Сотрудники вызвали скорую помощь. Управляющий банком, хорошо знавший отца Елизаветы, сообщил ему о состоянии дочери.
Отец приехал раньше скорой помощи и с трудом отвез Лизу домой. В последующие три дня страх понемногу ослабевал под влиянием мепробамата и фенобарбитала, но дочь продолжала прятаться, кричала, что ее «придут убивать». Все кончилось как обычно остро с началом менструации.
Отец оформил увольнение дочери из банка «по собственному желанию». Спустя месяц она была трудоустроена бухгалтером. Фенобарбитал и феназепам стала пить постоянно — и вялость, и слабость усилились. С работой справлялась, но делала все медленнее обычного.
В это время родители были вынуждены обратиться к психиатру. Так как при первой беседе психиатр, кроме некоторой двигательной и мыслительной заторможенности, не выявил другой патологии, было предложено отменить все психотропные препараты с целью лично пронаблюдать, как протекает психотический эпизод.
От госпитализации и оформления амбулаторной карты отец категорически отказался. Осмотр пациентки после отмены всех препаратов, кроме 0,5 мг феназепама на ночь: возраст 22 года, жалоб не высказывает.
Несколько смущена тем, что приходится впервые за восемь лет болезни рассказывать об интимных проблемах. Сознание ясное, все виды ориентировки сохранены. Речь свободная, связная, словарный запас богатый. На вопросы отвечает по существу, не отвлекаясь на несущественные детали.
Постепенно из-за своей «секретной» болезни стала реже посещать общественные мероприятия (театр, концерты, стадион) — боялась, что болезнь может проявиться неожиданно в любой день или что друзья как-то узнают об этом. Так она говорит о приступе болезни в банке: «Боялась, боялась и все- таки сорвалась».
.Половой жизнью не жила. Мальчики нравились и в школе, и в институте. С одним из них, учась в вузе, дружила более двух лет. Родители надеялись на брак дочери, но молодому человеку пришлось перевестись учиться в другой город из-за переезда туда родителей. Отношение к болезни полностью критичное:
«Не могу понять, что со мной в это время происходит… все вижу, все помню, а понимаю не так».
При рассказе о приступе болезни сообщила, что никаких посторонних голосов в это время не слышит: «Просто все вокруг против меня… такой страх… вот-вот — и убьют… даже родных боюсь в это время… стыдно».
Врачу удалось лично увидеть приступ заболевания, возникший в период ПМС. Больная находилась в домашней обстановке. Со слов матери, приступ начался примерно в 16 ч. Врач увидел пациентку через два часа. Она находилась в своей комнате, лежащей нераздетой в постели с закрытой простынею головой, стонала.
Услышав шаги подходящих к кровати людей, неожиданно закричала: «Уйдите… я ничего плохого не сделала… не трогайте меня!» В присутствии врача появилась дрожь во всем теле. Оказывала сопротивление при попытке снять с лица простынь. Закрыла глаза руками. Лицо бледное, потное, пульс 94 удара в минуту, артериальное давление 160/85.
Мышцы напряжены, наблюдается мелкое подрагивание всего тела. Когда удалось оторвать от лица руки, обнаружены расширенные зрачки. В глазах страх, испуг. Вся съежилась, напряглась, как перед ударом.
Никаких инструкций врача и матери не выполняет. То тихо, то громко, с подвыванием, кричит: «Оставьте меня в покое!», однако после уговоров матери проглотила с закрытыми глазами таблетку феназепама. Улучшения не наступило. Когда врач вышел из комнаты, попросила мать: «Запри меня на ключ».
Было очевидно, что страх и бред преследования протекают на фоне ясного сознания и ориентировка в окружающем сохраняется. Ни на какие вопросы врача и матери не отвечала, продолжала громко кричать. Через закрытую дверь были слышны ее стоны. После ухода врача около 22 часов из рук матери съела бутерброд и выпила стакан сладкого чая.
Мать не удивилась, что дочь, прежде чем взять в рот, понюхала еду и чай. По словам матери, она делает это во время болезни часто: «Боится отравления». Несколько часов проспала. Ночью родители слышали стоны из комнаты дочери, к чему уже привыкли. Лишь однажды, в 18 лет (из записей отца), дочь в приступе страха пыталась выбежать раздетой из дома, но родителям удалось ее остановить.
Утром врач увидел ту же картину. Больная из комнаты не выходила, к себе никого не впускала, лежала в постели в той же одежде. При попытке заговорить с ней кричала. Дрожь тела и громкость крика была несколько меньшей, чем в предыдущий день. Матери удалось ее покормить.
С врачом не стала разговаривать — закрылась простыней. «Уйдите… боюсь… Что вы хотите со мной сделать?.. Вы тоже за них?..» Объяснений своим словам не дает. Обращение к врачу на «вы» вновь показало, что больная ориентируется в окружающей обстановке. Взгляд оставался испуганным, выражение лица напряженное. Так продолжалось еще двое суток.
Со слов матери, к вечеру четвертого дня дочь успокоилась, вышла из комнаты, приняла ванну, привела себя в порядок, покушала. Сказала матери, что хочет спать. Ночь спала без стонов. Утром попросила у родителей прощения. Врачу сказала, что все прошло. Р
ассказала, что было не просто страшно, а «жутко». Во время болезни всех узнавала, понимала, где находится, но родных и врача подозревала в желании сделать ей что-нибудь плохое, что бы ни говорили — она относила все к себе. И хотя слова были обычные, успокаивающие, слышала в них угрожающий смысл.
На вопрос, понимала ли она, что такое состояние у нее возникло не впервые и каждое из предыдущих заканчивалось благополучно, ответила, что в тот момент она не вспоминала о прошедшем и думала только о том, как бы спастись. Вспомнила, что в первые годы возникали мысли, что ее могут избить, а в последние годы появился страх за жизнь.
Врач пытался выяснить, за что же ее хотят отравить, убить, тем более родные люди? Сказала, что в этом состоянии она не думала о причинах поведения окружающих, просто была в этом убеждена, но почему — объяснить не может.
«Мне потом самой стыдно, что я могла так подумать».
Добавила, что боится в этот период не только близких, но и любых людей, которые могли оказаться около нее при начале приступа. «Однажды, еще в школе, приступ начался, когда мы с бабушкой возвращались домой. Тогда показалось, что на меня хочет наброситься собака, которую вел на поводке какой-то парень».
Врач поинтересовался, не было ли во время болезни ощущения, что под видом родителей к ней подходят другие люди, не замечала ли она изменение окружающих предметов. Пациентка сообщила, что она всех узнавала: «Только были мысли — за что? Что я такого ужасного сделала, что папа и мама хотят от меня избавиться? Предметы не менялись, а обстановка в целом становилась угрожающей, даже голоса родных людей».
Отрицает ощущения «сделанности», воздействия внешней силы, не-реальности окружающего в период приступа. Отрицает также появление посторонних звуков. Объяснила обнюхивание пищи тем, что возникали мысли о желании родных ее отравить, но запахов ни от пищи, ни в комнате не ощущала. Соматически: кожа бледная, влажная. Пульс 68–72 удара в мин., АД: 115–120/65–70. Болей в связи с начавшейся менструацией не испытывает.
Исходя из следующих данных: острые начало и конец приступа, фазность заболевания, его возникновение только в предменструальный период, наличие в анамнезе судорожного приступа в пятимесячном возрасте, — возникла необходимость исключить так называемую височную эпилепсию.
Невропатолог обнаружил лишь легкие рассеянные знаки органической патологии мозга. На ЭЭГ — изменения биоэлектрической активности мозга в виде легкой дизритмии корковых потенциалов без различия сторон. Пароксизмальной активности не выявлено. В рентгенограмме черепа патологии не отмечено.
Дополнительные расспросы выявили, что примерно за день до начала психотического эпизода у пациентки появляется легкая беспричинная тревожность, нарушается глубина сна (он становится более поверхностным, с краткими пробуждениями и запоминающимися сновидениями неприятного содержания), нестойкие головные боли, снижение настроения, нерешительность, затруднения в усвоении нового материала.
Выход из психоза также не был критическим. В течение нескольких суток уменьшались тревога и страх, появлялся аппетит, ослабевала дрожь в теле. Больной было предложено принимать лечение не постоянно, а курсами, начинающимися с первых предвестников ПМС и заканчивающимися в первый день менструации.
В течение нескольких менструальных циклов был подобран препарат, который пациентка под контролем родителей, а затем самостоятельно принимала утром и вечером по 4 мг в течение пяти дней весь период ПМС. На этой дозе бредовых идей и выраженного страха не появлялось — наблюдались лишь вегетативные симптомы, легкая тревожность.
На фоне лечения пациентка приступила к работе. Один из сотрудников, бездетный вдовец, старше Лизы на 11 лет, стал ухаживать за ней «с серьезными намерениями». Родители не препятствовали браку в надежде на полное выздоровление дочери. Будущему зятю о болезни не сообщили, и он в течение всей совместной жизни о ней так и не узнал.
Замужество, однако, не изменило течения болезни. Приходилось по-прежнему принимать препарат. Самостоятельная попытка прекратить прием лекарства в период командировки мужа (пациентка в эти дни жила у родителей) привела к психотическому эпизоду.
Через полгода после замужества пациентка забеременела, у нее исчезли менструации, и она по совету врача перестала принимать лекарства. При беременности и при кормлении ребенка приступов болезни не возникало. Лишь через семь месяцев после родов неожиданно почувствовала тревогу, и по согласованию с врачом лечение было возобновлено, а кормление ребенка грудью прервано.
В последующие годы к врачу обращалась редко. В связи с появлением новых препаратов пациентке предлагалось сменить лечение на более современное и менее токсичное, но больная и ее отец категорически отказывались. Отказывались также и от каких бы то ни было обследований.
Елизавета работала, воспитывала сына, занималась с репетитором английским языком. Когда сыну исполнилось 14 лет, он в сопровождении матери уехал на учебу в Лондон, где в совместной англо-советской компании работал племянник отца Елизаветы. Сама она устроилась в компанию двоюродного брата работать переводчицей.
Одновременно давала частные уроки как английского (для русскоязычных), так и русского (для иностранцев) языка. Учеников было много, хорошо зарабатывала. Имела друзей среди сотрудников по работе и родителей одноклассников сына. Состояние здоровья все последующие годы было вполне удовлетворительным, но лекарства по выработанной схеме продолжала принимать.
Препарат привозил из России навещавший жену и сына муж. Планировалось, что, когда муж выйдет на пенсию, он переедет к ним жить, но с возрастом муж стал часто болеть и, выйдя на пенсию, остался в Казани.
Елизавета в каникулярное время сына почти ежегодно приезжала в Казань, но к врачу обращалась редко. В одно из таких посещений были обнаружены дополнительные признаки, косвенно указывавшие на наличие «органической симптоматики». Елизавета рассказывала, что она с детства плохо переносила поездки на поезде и автобусе, не любила душную баню, отказывалась от качелей, так как потом немного тошнило и могла кружиться голова.
Сын после колледжа поступил в Лондоне в университет. Очередное посещение врача состоялось, когда Елизавете было 59 лет. Она приехала в Казань для оформления наследства после смерти мужа. В Казани близких родственников не осталось, за последние 12 лет умерла бабушка, в ДТП погибли родители. С бывшими казанскими друзьями контактов не поддерживала.
К врачу «просто заглянула перед отъездом» в Лондон. Вспоминала о родителях, о бабушке, меньше о муже. За рубежом проживала к тому времени 21 год. В беседе участвовала охотно, была улыбчива, несколько многоречива («соскучилась по казанцам»), речь по существу.
Признаков шизофренического дефекта или органического снижения личности в беседе и в поведении не обнаруживалось, считала себя здоровой. С наступлением менопаузы «психозы» прекратились. Тогда же по совету врача лечение закончила. Климакс в 52-летнем возрасте перенесла вполне удовлетворительно. Рассказала, что, когда появился интернет, она много читала о своей болезни, переживала, что врач подозревал у нее шизофрению.
«Сначала боялась, не передастся ли болезнь сыну», но с годами поняла, что это другое заболевание, и почти перестала волноваться. Была полна заботами о внуке. В Казань приезжать в будущем не собиралась: «Может, только навестить могилы родителей».
Была благодарна врачу, что из нее «не сделал сумасшедшую».
Последний разговор по телефону состоялся у пациентки с врачом еще через четыре года. Поздравила врача с Новым годом, сообщила, что родился второй внук. Чувствовала себя хорошо, лекарства принимала только «от гипертонии».
Из приведенной истории болезни можно сделать вывод о том, что на протяжении всего периода течения заболевания каждый предменструальный период у Елизаветы сопровождался психическими нарушениями. Только прием психотропных препаратов ослаблял или предотвращал развитие очередного приступа. В период между регулами даже без приема психотропного лечения психотических симптомов не наблюдалось, и пациентка была практически здоровой.
Болезнь у Елизаветы началась с периода первой менструации приблизительно в 14 лет и окончилась после последней менструации в 52 года, то есть продолжалась в течение 38 лет. Прием психотропных препаратов привел к тому, что клинически выраженных приступов психоза в течение жизни наблюдалось не более 12–14.
Один приступ психического расстройства в 22-летнем возрасте, как видно из приведенной истории болезни, лично наблюдал врач-психиатр. У этого психиатра Елизавета в последующем консультировалась и лечилась весь период болезни вплоть до менопаузы.
Клиническая картина каждого приступа болезни у нее была стереотипной и достаточно элементарной. Она складывалась из двух групп симптомов — расстройств эмоциональной сферы (в виде выраженной тревоги и страха) и расстройств мышления (в форме персекуторного бреда).
На протяжении всего периода болезни не наблюдалось ни расстройств восприятия, ни усложнения клинической картины, ни признаков нарушения сознания. Если в первые месяцы болезни по выходе из психоза критики к перенесенному не было, то в дальнейшем Елизавета разобралась, что все, что с ней происходило, есть результат болезни.
Однако в период выраженного страха критическая оценка полностью исчезала. В целом клиническую картину каждого приступа синдромологически можно охарактеризовать как аффективно-бредовое расстройство.
Наблюдение за пациенткой на протяжении нескольких десятилетий не выявило у нее в межприступные периоды каких-либо изменений ни в интеллектуальной, ни в эмоциональной, ни в волевой сфере. Она, несмотря на болезнь, успешно училась в школе, в институте, много лет работала бухгалтером, вышла замуж, родила ребенка, переехала в другую страну, в которой смогла полностью адаптироваться, — и все это происходило на фоне периодического приема небольших доз антипсихотиков.
Длительное наблюдение за пациенткой, личное знакомство врача с ее родителями позволяют утверждать, что в личности Елизаветы под влиянием болезни не произошло каких-либо изменений, часто встречающихся у длительно соматически болеющих (фиксация на своем состоянии здоровья, ипохондризация).
Не обнаружено также изменений при длительно протекающих эндогенных психозах. Елизавета живет полноценной жизнью, адекватно переживает за внука, за сына. Тепло, с некоторой грустью вспоминает умерших родных, строит вполне реальные планы на будущее.
Сравнительно небольшие дозы прописанного препарата, успешно предотвращающие развитие очередного психоза, наводят на мысль, что бредовые идеи отношения и преследования являются вторичными, а эмоциональные расстройства — первичными. Видимо, они и «заводят» механизм бредообразования.
Возможно, в конструировании психотического приступа играют роль хотя и невыраженные, но регулярно повторяющиеся признаки дереализации, ощущения изменения обстановки, изменения поведения окружающих, выражения лиц «преследователей». В то же время нельзя исключить, что элементы дереализации могут быть результатом выраженного эмоционального напряжения и несистематизированных бредовых идей (бредовая дереализация).
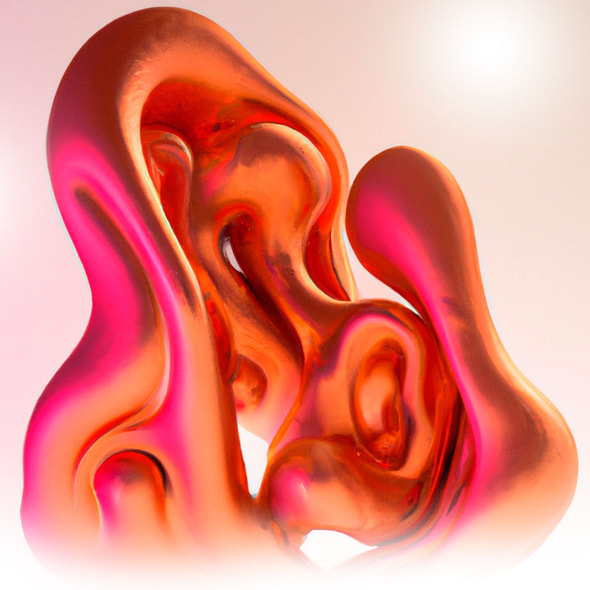
Таким образом, у больной Елизаветы в структуре болезни можно выявить три фактора, воздействие которых друг на друга остается не вполне выясненным:
- Предменструальный синдром;
- Легкие, но стойкие признаки органической неполноценности головного мозга;
- Кратковременные психотические эпизоды.
Очевидно, что каждый из перечисленных факторов мог бы существовать у Елизаветы по отдельности. Но классиками психиатрии замечено, что предменструальный период может проявляться «нервными расстройствами». Р. Крафт-Эбинг прямо называл их периодическим менструальным помешательством.
П. И. Ковалевский писал, что «психоз появляется перед менструальным со-стоянием и с наступлением оного или ослабевает, или вовсе проходит». С другой стороны, известно, что даже негрубое органическое поражение головного мозга может вызвать психотическое расстройство, в том числе и периодическое.
В доказательство этой точки зрения приведем из отечественной литературы работы известных психиатров — П. Ф. Малкина и А. С. Тиганова. П. Ф. Малкин и его ученики выделяют группу периодических психозов, в понятие которых вкладывают не только повторяемость («нередко почти календарную периодичность приступов болезни»), но и общие признаки клинической картины. Сюда отнесены стереотипность, характерная динамика приступов (острое начало и острое обратное развитие), протекающих как «клише».
Продолжительность приступов составляла, по авторам, в среднем полтора месяца. А. С. Тиганов так описывает приступ периодического органического психоза: «начинается внезапно среди полного здоровья с продромальны-ми симптомами в виде астении, головной боли.
Развивается быстро, иногда за несколько часов, сопровождается двигательным возбуждением или ступором, несистематизированным бредом, галлюцинациями, психосенсорными расстройствами и помрачением сознания». Длительность приступа, по А. С. Тиганову, 1–2 недели с полным выходом из психоза. Однако, по данным А. С. Тиганова, с годами психотические приступы учащаются.
Как и П. Ф. Малкин, А. С. Тиганов видит в основе заболевания органическое поражение головного мозга, в связи с которым у пациентов постепенно нарастают изменения личности по органическому типу.
За возможную органическую природу периодических психических расстройств у Елизаветы может условно говорить и перенесенный в пятимесячном возрасте судорожный приступ, не оставивший после себя ни в неврологическом статусе, ни в структуре личности никаких эпилептоидных (органических) черт.
Ближе всего, на наш взгляд, клиническая картина болезни у Елизаветы подходит под описание С. Г. Жислиным особой группы «реакций патологически измененной почвы». Эти расстройства нельзя отнести ни к экзогенным, ни к психогенным реакциям. Для их диагностики, по автору, необходимы два критерия:
- Наличие какого-либо соматического фактора, лежащего в основе измененной почвы и
- Своеобразная клиническая картина заболевания: «быстро, иногда без предвестников… развивается бред преследования. Больной замечает, что находится во враждебном окружении, что за ним следят отдельные подозрительные лица или целая шайка; они сговариваются, обмениваются многозначительными замечаниями или условными знаками; его собираются ограбить, убить, … подвергнуть мучениям».
По выздоровлении больной помнит все, что происходило с ним в период болезни. С. Г. Жислин далее пишет, что повторные психотические эпизоды протекают однотипно, повторяя один другой, «иногда даже в де-талях». Автор ссылается на К. Шнейдера, который вначале называл такие состояния «примитивным бредом отношения», а позднее «реакциями фона». Под фоном Шнейдер понимал наличие какой-либо экзогенной вредности.
К патологически измененной почве С. Г. Жислин относил не только органическую недостаточность мозга, но и любые соматические расстройства. У Елизаветы болезнь началась за несколько дней до первой менструации и закончилась выздоровлением на последней.
Можно предположить, что именно менструальный цикл стал в данном случае этиологическим фактором заболевания, так как органическая недостаточность мозга осталась без изменений и, видимо, даже усугубилась за счет появившейся гипертонической болезни.
В таком же формате развивались психотические эпизоды и у Елизаветы. Приступы психоза у нее по времени всегда были тесно связаны с менструальным циклом, остро возникая в период ПМС и остро заканчиваясь с началом менструации. Каждый приступ завершался выздоровлением с полной критикой к произошедшему.
В клинической картине болезни Елизаветы не выявлялось, кроме идей преследования, ни бреда воздействия, ни бреда интерметаморфозы, ни бреда положительного или отрицательного двойника, ни синдрома Фреголи, то есть не наблюдалось остроты, которая присуща синдрому Капгра.
У пациентки никогда не возникали галлюцинации. Ни в одном из приступов болезни у Елизаветы не наблюдалось нарушения сознания: ориентировка в окружающем, собственной личности была сохранена. С течением времени также не наблюдалось ни усложнения, ни упрощения психопатологических проявлений. В межприступный период не выявлялось признаков ни шизофренического, ни органического дефекта. Пациентка за весь период болезни оставалась такой же общительной, жизнерадостной, активной.
Таким образом, мы можем с большой долей вероятности утверждать, что Елизавета перенесла психическое расстройство, непосредственно связанное с менструальным циклом. Наблюдение за больной на протяжении четырех десятилетий показало отсутствие как эндогенных, так и органических изменений личности.
Полное выздоровление, также прослеженное на протяжении 11 лет, дает право утверждать, что понятие «менструальный психоз» незаслуженно исключено из нозологической классификации психических расстройств.
Фото: Shutterstock